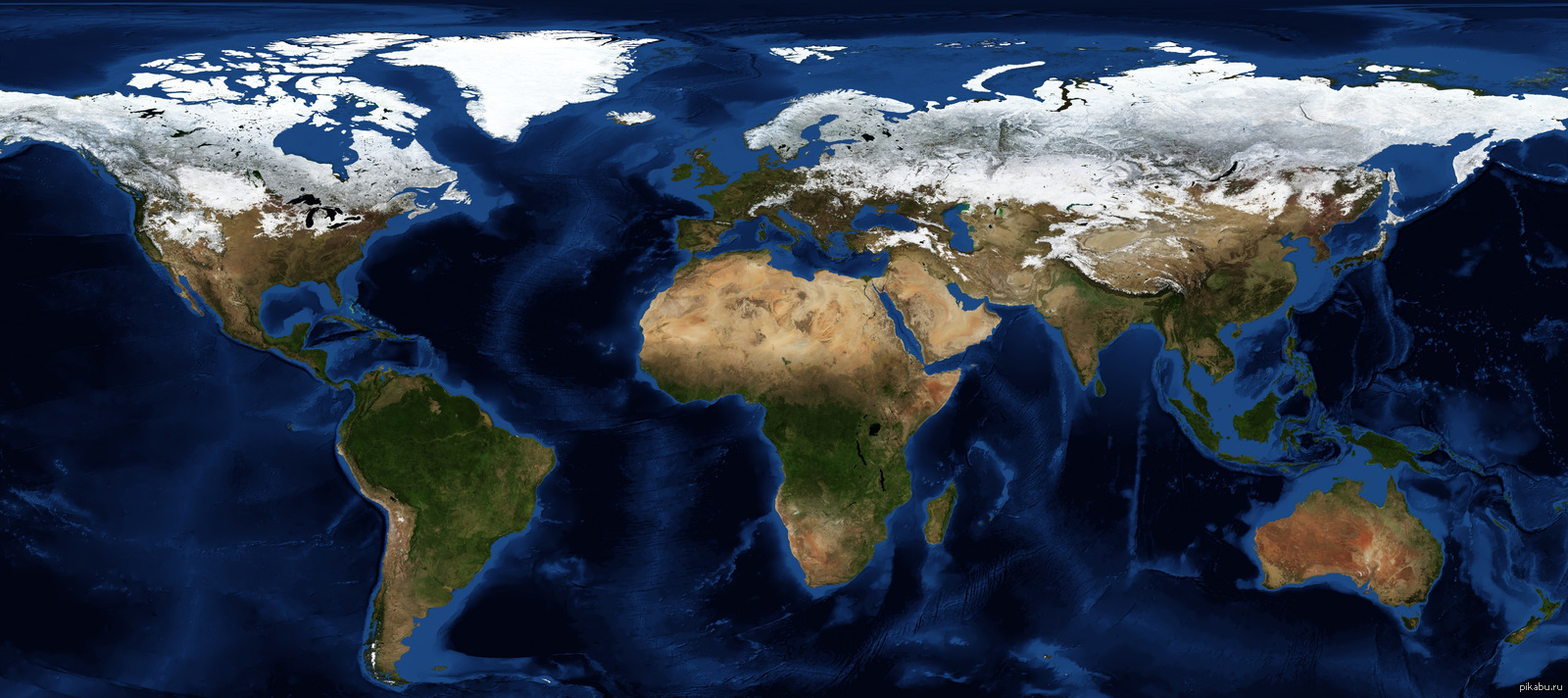Из глубины веков и вод: история освоения морей и океанов 🕔 1 мин.
Предисловие к книге «Из глубины веков и вод» (Э. Бреттшнейдер)
Мы живем в век новых, великих открытий. Успехи науки и техники дают нашим современникам возможность создавать корабли, которые могут отрываться от Земли и свободно передвигаться в космосе, в мире невесомости. Одновременно с наступлением на космос человек занялся и на земном шаре освоением последних еще не подвластных ему пространств – освоением морей и океанов. Техники конструируют глубоководные лодки, на которых отважные люди смело, погружаются в еще не изведанные глубины, в мир не менее таинственный, чем Марс и Луна.
Космонавты и океанавты стали в наши дни первооткрывателями, ярким примером для молодежи. Это они претворяют в жизнь давнюю мечту человека – овладеть звездами и проникнуть на дно океана.
На протяжении тысячелетий люди испытывали страх перед стихийными силами природы, на веки вечные были они отданы во власть этих сил. Со временем рыбаки научились плести сети и мастерить лодки, чтобы выходить в море на промысел. Шли тысячелетия. Ученые наблюдали за приливами и отливами, проводили замеры берегов. Инженеры строили гавани и дамбы, мореплаватели на различных судах бороздили океаны. Но подводное царство, как и прежде, оставалось недоступным для человека. Его владения ограничивались сушей, составляющей немногим более четвертой части всей поверхности Земли.
Дальше так не могло продолжаться! Некие великие державы уже претендуют на еще не освоенную «целину» подводного мира. Начало этому положили Соединенные Штаты Америки. Сразу же после окончания второй мировой войны они принялись расширять свои государственные границы за счет морей и океанов. Их привлекают богатые залежи полезных ископаемых, которые скрыты в морских глубинах.
Уже добывается под водой уголь, сооружаются в открытом море буровые вышки для добычи нефти. Геологи исследуют свойства морского грунта, биологи изучают животный и растительный мир океана, изыскивают методы лучшего использования этих богатств.
Водолазы знакомятся с последними достижениями науки. Ученые в свою очередь овладевают техникой глубоководного погружения. Так подрастает новое, молодое поколение исследователей, по мужеству и смелости не уступающих космонавтам. Ибо, как ни велики достижения техники, поединок с морской стихией по-прежнему таит в себе опасность. Вода по-прежнему требует своей дани. Сообщения о гибели судов и наводнениях красноречиво свидетельствуют об этом. В настоящее время существует тридцать четыре тысячи кораблей водоизмещением более ста брутто-регистровых тонн. Из них ежегодно погибает около трехсот пятидесяти. Это означает, что ежедневно уходит ко дну один такой корабль. Но на самом деле число потерь гораздо больше, если учитывать суда меньших размеров. В большинстве случаев о кораблекрушении становится известно: когда судно тонет, оно посылает по радио сигналы бедствия. Но в среднем в пятнадцати случаях из ста только обломки, носящиеся по волнам, свидетельствуют о трагедии, причину которой никогда уже нельзя будет точно установить.
10 апреля 1963 года в трехстах километрах от восточного побережья Америки затонула самая совершенная по конструкции атомная подводная лодка Соединенных Штатов, гордость американского морского флота. Ни одна береговая радиостанция не принимала сигнала бедствия. Когда снарядили поисковую экспедицию, было уже поздно. Морская пучина поглотила судно с экипажем в 129 человек. Причины и подробности этой катастрофы не выяснены, и ничего не удастся узнать до тех пор, пока водолазы не сумеют приблизиться к обломкам корабля, скрытым под водой на пока еще недоступной для них глубине 2500 метров.
Восемь дней спустя в Бискайском заливе обнаружили плывущее кверху килем французское судно водоизмещением 140 тонн. Водолазы осмотрели корпус и обнаружили на нем следы от столкновения с айсбергом. Еще через два месяца, в июне 1963 года, западнее Гренландии затонуло самое современное западногерманское рыболовецкое судно «Мюнхен». Оно не столкнулось с айсбергом, а стало жертвой ошибки, допущенной при конструировании.
В ежедневной прессе подобные сообщения не редкость. Ведь и сегодня, в век атомной энергии и электронных машин, мы не гарантированы от катастроф такого рода.
И все-таки по сравнению с прошлым кое-что изменилось. Чтобы убедиться в этом, достаточно одного примера. Вскоре после катастрофы с атомной подводной лодкой глубоководный корабль, батискаф «Триест», отправился на ее розыски. Работы велись в трехстах километрах от американского побережья, на глубине 2500 метров. При фотографировании морского дна участники экспедиции обнаружили остатки других кораблей. Люди собираются отвоевать у моря то, что оно некогда взяло у них.
Наступило время, когда историки судостроения и археологи должны овладеть техникой глубоководного погружения, для того чтобы отыскивать под водой следы далекого прошлого.
Сколько судов затонуло в морских волнах на протяжении тысячелетий?
Этого мы не знаем, можем только предполагать, что число обломков, сохранившихся в морских глубинах, очень велико. И мы убеждены в том, что морское дно представляет собой огромный музей, единственный в своем роде.
Уже египтяне, критяне и финикияне пересекали Средиземное море. За ними последовали греки, римляне, норманны и арабы с целыми флотилиями галер, всевозможных торговых и военных судов. После них Средиземное море бороздили испанские галеоны, пиратские бриги, ганзейские коги и канонерки европейских завоевателей.
Суда, разбивавшиеся о скалы, получавшие пробоины, погибавшие во время шторма, увлекали в морскую пучину все, что было на борту: людей, оружие, утварь, драгоценности, запасы продовольствия. Так с течением времени появилось огромное кладбище судов.
Но море ревниво стережет свою добычу. Лишь иногда затонувшие предметы попадают в рыбачьи сети или выбрасываются штормом на берег. Однако наука не намерена довольствоваться этими случайностями – ни на суше, ни в море. То, что собрано в музеях всего мира, – результат систематической исследовательской работы археологов. Ученые и впредь будут подвергать научному анализу находки, поднятые со дна океана.
Появление аквалангов и прочих средств подводных исследований вызвало к жизни новую отрасль науки: подводную археологию. О ее первых шагах, успехах и неудачах, дерзаниях и перспективах рассказывается в этой книге. Правда, исчерпывающих сведений о достижениях подводной археологии она не дает, ибо сделать это в наши дни невозможно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
BraveRobot нашел еще статьи на эту тему:
Из глубины веков и вод: история освоения морей и океанов 🕔 1 мин.
Предисловие к книге «Из глубины веков и вод» (Э. Бреттшнейдер)
Мы живем в век новых, великих открытий. Успехи науки и техники дают нашим современникам возможность создавать корабли, которые могут отрываться от Земли и свободно передвигаться в космосе, в мире невесомости. Одновременно с наступлением на космос человек занялся и на земном шаре освоением последних еще не подвластных ему пространств – освоением морей и океанов. Техники конструируют глубоководные лодки, на которых отважные люди смело, погружаются в еще не изведанные глубины, в мир не менее таинственный, чем Марс и Луна.
Космонавты и океанавты стали в наши дни первооткрывателями, ярким примером для молодежи. Это они претворяют в жизнь давнюю мечту человека – овладеть звездами и проникнуть на дно океана.
На протяжении тысячелетий люди испытывали страх перед стихийными силами природы, на веки вечные были они отданы во власть этих сил. Со временем рыбаки научились плести сети и мастерить лодки, чтобы выходить в море на промысел. Шли тысячелетия. Ученые наблюдали за приливами и отливами, проводили замеры берегов. Инженеры строили гавани и дамбы, мореплаватели на различных судах бороздили океаны. Но подводное царство, как и прежде, оставалось недоступным для человека. Его владения ограничивались сушей, составляющей немногим более четвертой части всей поверхности Земли.
Дальше так не могло продолжаться! Некие великие державы уже претендуют на еще не освоенную «целину» подводного мира. Начало этому положили Соединенные Штаты Америки. Сразу же после окончания второй мировой войны они принялись расширять свои государственные границы за счет морей и океанов. Их привлекают богатые залежи полезных ископаемых, которые скрыты в морских глубинах.
Уже добывается под водой уголь, сооружаются в открытом море буровые вышки для добычи нефти. Геологи исследуют свойства морского грунта, биологи изучают животный и растительный мир океана, изыскивают методы лучшего использования этих богатств.
Водолазы знакомятся с последними достижениями науки. Ученые в свою очередь овладевают техникой глубоководного погружения. Так подрастает новое, молодое поколение исследователей, по мужеству и смелости не уступающих космонавтам. Ибо, как ни велики достижения техники, поединок с морской стихией по-прежнему таит в себе опасность. Вода по-прежнему требует своей дани. Сообщения о гибели судов и наводнениях красноречиво свидетельствуют об этом. В настоящее время существует тридцать четыре тысячи кораблей водоизмещением более ста брутто-регистровых тонн. Из них ежегодно погибает около трехсот пятидесяти. Это означает, что ежедневно уходит ко дну один такой корабль. Но на самом деле число потерь гораздо больше, если учитывать суда меньших размеров. В большинстве случаев о кораблекрушении становится известно: когда судно тонет, оно посылает по радио сигналы бедствия. Но в среднем в пятнадцати случаях из ста только обломки, носящиеся по волнам, свидетельствуют о трагедии, причину которой никогда уже нельзя будет точно установить.
10 апреля 1963 года в трехстах километрах от восточного побережья Америки затонула самая совершенная по конструкции атомная подводная лодка Соединенных Штатов, гордость американского морского флота. Ни одна береговая радиостанция не принимала сигнала бедствия. Когда снарядили поисковую экспедицию, было уже поздно. Морская пучина поглотила судно с экипажем в 129 человек. Причины и подробности этой катастрофы не выяснены, и ничего не удастся узнать до тех пор, пока водолазы не сумеют приблизиться к обломкам корабля, скрытым под водой на пока еще недоступной для них глубине 2500 метров.
Восемь дней спустя в Бискайском заливе обнаружили плывущее кверху килем французское судно водоизмещением 140 тонн. Водолазы осмотрели корпус и обнаружили на нем следы от столкновения с айсбергом. Еще через два месяца, в июне 1963 года, западнее Гренландии затонуло самое современное западногерманское рыболовецкое судно «Мюнхен». Оно не столкнулось с айсбергом, а стало жертвой ошибки, допущенной при конструировании.
В ежедневной прессе подобные сообщения не редкость. Ведь и сегодня, в век атомной энергии и электронных машин, мы не гарантированы от катастроф такого рода.
И все-таки по сравнению с прошлым кое-что изменилось. Чтобы убедиться в этом, достаточно одного примера. Вскоре после катастрофы с атомной подводной лодкой глубоководный корабль, батискаф «Триест», отправился на ее розыски. Работы велись в трехстах километрах от американского побережья, на глубине 2500 метров. При фотографировании морского дна участники экспедиции обнаружили остатки других кораблей. Люди собираются отвоевать у моря то, что оно некогда взяло у них.
Наступило время, когда историки судостроения и археологи должны овладеть техникой глубоководного погружения, для того чтобы отыскивать под водой следы далекого прошлого.
Сколько судов затонуло в морских волнах на протяжении тысячелетий?
Этого мы не знаем, можем только предполагать, что число обломков, сохранившихся в морских глубинах, очень велико. И мы убеждены в том, что морское дно представляет собой огромный музей, единственный в своем роде.
Уже египтяне, критяне и финикияне пересекали Средиземное море. За ними последовали греки, римляне, норманны и арабы с целыми флотилиями галер, всевозможных торговых и военных судов. После них Средиземное море бороздили испанские галеоны, пиратские бриги, ганзейские коги и канонерки европейских завоевателей.
Суда, разбивавшиеся о скалы, получавшие пробоины, погибавшие во время шторма, увлекали в морскую пучину все, что было на борту: людей, оружие, утварь, драгоценности, запасы продовольствия. Так с течением времени появилось огромное кладбище судов.
Но море ревниво стережет свою добычу. Лишь иногда затонувшие предметы попадают в рыбачьи сети или выбрасываются штормом на берег. Однако наука не намерена довольствоваться этими случайностями – ни на суше, ни в море. То, что собрано в музеях всего мира, – результат систематической исследовательской работы археологов. Ученые и впредь будут подвергать научному анализу находки, поднятые со дна океана.
Появление аквалангов и прочих средств подводных исследований вызвало к жизни новую отрасль науки: подводную археологию. О ее первых шагах, успехах и неудачах, дерзаниях и перспективах рассказывается в этой книге. Правда, исчерпывающих сведений о достижениях подводной археологии она не дает, ибо сделать это в наши дни невозможно.
Источник
История ледниковых периодов
История вопроса
Ледниковый период. Что мы знаем о ледниковом периоде? Мы беспокоимся о глобальном потеплении, с тревогой наблюдаем, как тает Арктика и растет средняя температура на планете. Еще недавно о ледниковом периоде мы не знали абсолютно ничего.
До середины XIX века господствовали представления о стабильности климата в прошлом нашей планеты. Да и сколько было этого самого прошлого? Семь тысяч лет, как говорится в Библии, или сотни миллионов, по расчетам геологов и астрономов? Прошлое только начинало приобретать свои очертания, как берег неизведанного континента, вырастающий из тумана.
Нет, конечно, были известны окаменевшие остатки тропической растительности и кости теплолюбивых животных, найденные в северных широтах. Но эти находки вполне соответствовали передовой на то время идее об остывающей Земле. Раскаленная, покрытая лавовыми морями, планета постепенно теряла тепло, превращаясь в известный нам мир. Экваториальный ад мезозоя сменялся третичными тропиками и знакомым климатом четвертичного периода. Уильям Томсон Кельвин дал обоснование этой идее с помощью термодинамики, и даже вывел примерный возраст планеты – от 20 до 100 млн лет.
Наличие ледников в горах и ледовых покровов на полюсах планеты укладывалось в эти представления. А вот геологическое исследование ледников привело к неожиданным результатам. Оказалось, что ледники могут расползаться и отступать, оставляя характерные следы в виде валунов, морен и продольных борозд на скалах. То, что давно было известно жителям горных долин, геологи узнали лишь в XVIII веке. А в XIX веке такие же следы были обнаружены в тех регионах Европы и Северной Америки, для которых ледовый покров был неизвестен. В 1837 году Луи Агассис опубликовал доклад «Теория ледников», высказав предположение об эпохах глобального похолодания и распространения ледникового покрова на значительную часть Северного полушария.
Предположение Агассиса было воспринято научным сообществом с изрядной долей скепсиса. Ну еще бы! Арктические льды на месте Берлина или Санкт-Петербурга? Даже библейский миф о Потопе выглядит правдоподобней. Ледниковые эпохи представлялись фантазией вплоть до 70-х годов XIX века. Их признание началось с работ шотландского ученого Джеймса Кролла. Были определены критерии, позволяющие отличить ледниковые отложения от всех остальных. Смена эпох глобального похолодания и потепления получила объяснение через связь с солнечной активностью, парниковыми газами и эффектом альбедо. А в 20-30-х годах уже XX века сербский ученый Миланкович создал модель климатических циклов, позволяющую рассчитать изменения климата в плейстоцене и голоцене.
Так что мы знаем о ледниковом периоде? Говорят, это когда лёд, холод, метель, снежная пустыня до самого горизонта, пещерные люди в шкурах пещерных медведей – ледниковый период.
Механика оледенений
Ледниковым периодом называется длительный в геологических масштабах промежуток времени, во время которого климат на планете становится холодным и устанавливается ледовый покров на материках.
Ледниковый период состоит из чередующихся парных эпох «ледниковье-межледниковье». Ледниковье – это когда все плохо, холод, падение уровня моря, обледенение. Межледниковье – наоборот, светло, тепло, и уровень моря высокий. Внутри этих эпох также выделяют периоды похолоданий и потеплений, но менее масштабные. Мы, к слову, живем сейчас в межледниковую эпоху, начавшуюся 11,7 тысяч лет назад. А одним из примеров незначительного похолодания в наше, в целом теплое время, являлся малый ледниковый период, продолжавшийся с XIV до середины XIX века. После чего началось глобальное потепление, усиленное антропогенным влиянием.
Продолжительность ледниковых эпох и межледниковий может колебаться в пределах десятков тысяч лет. А всего ледниковый период может насчитывать десятки таких эпох, растягиваясь на миллионы лет. Последовательная череда ледниковых периодов образует ледниковую эру.
Универсальной причины, запускающей и останавливающей механизм остывания планеты, нет. Есть набор повторяющихся условий и факторов, каждый из которых вносит свой вклад в конкретную ледниковую эру:
— Длинное холодное лето в северном полушарии, возникающее из-за изменений орбиты планеты и колебания угла наклона земной оси.
— Снижение солнечной активности, уменьшающее количество тепла, поступающего на Землю.
— Увеличение отражательной способности поверхности (альбедо) планеты из-за снижения площади лесов или возникновения постоянного снежного покрова.
— Скопление больших массивов суши как на полюсах, так и на экваторе.
— Изменение океанических течений и циркуляции воздушных масс над ними.
— Падение концентрации парниковых газов (метана и углекислого газа) в атмосфере.
Запустить процесс глобального похолодания может как один, так и несколько факторов, но как его остановить? Если бы все силы, вызывающие оледенение, действовали только на его усиление или стабилизацию холодного климата, планета давно превратилась бы в гигантский снежный шар. Этого не происходит, потому что по мере развития оледенения значение вызвавших его факторов снижается, запуская механизм отрицательной обратной связи. Как это работает? Посмотрим на конкретных примерах.
Ледниковые эры
Современная геология способна увидеть далекое прошлое планеты в подробностях, недоступных исследователям XIX века. Мы знаем, что возраст Земли около 4,5 млрд лет, и 640 млн лет из них длились периоды глобальных похолоданий, известные, как ледниковые эры. Всего таких эр выделяют четыре.
Древнейшая ледниковая эра приходится на ранний протерозой и связана с кислородной катастрофой. Фотосинтезирующие организмы, львиную долю которых составляли цианобактерии, первыми научились загрязнять атмосферу, выбрасывая в нее токсичные продукты жизнедеятельности. Таким продуктом стал кислород. Главный парниковый газ первичной атмосферы, метан, оказался окисленным чуть менее чем полностью, и около 2,4 млрд лет назад температура на Земле упала с +54°С до -40°С. Наступившее Гуронское оледенение считается самым масштабным в истории: вся Земля была покрыта ледяным панцирем, и даже в тропиках толщина ледников составляла несколько сотен метров. Анаэробные организмы, питавшиеся метаном, почти вымерли, да и фотосинтетикам пришлось не сладко. Углекислый газ, поступающий через вулканы в атмосферу, постепенно накапливался, пока не сработал парниковый эффект, положивший конец Гуронскому оледенению 2,1 млрд лет назад.
Следующая ледниковая эра началась около 750 млн лет назад, охватив весь геологический период с говорящим названием «криогений», и закончившись около 580 млн лет назад, в эдиакарии. Масштаб нового оледенения был сопоставим с Гуронским, зато продолжительность была почти в два раза меньше. Модель, описывающая этот период, носит название «Земля-Снежок». Углекислый газ, вытащивший планету из объятий Гуронского оледенения, поставлялся в основном вулканами. И переходил в осадочные горные породы в процессе химического выветривания силикатов. Чем больше дождей идет над сушей, тем активнее процесс химического выветривания и изымания углекислого газа из атмосферы. А что будет, если всю сушу собрать в тропиках, в зоне обильных дождей? Когда литосферные плиты сложились в суперконтинент Родинию, ответ стал понятен. Бескрайние ледовые поля и -20°С в жаркий полдень на экваторе. Жизнь, ставшая уже многоклеточной, ютилась в подледных озерах и около геотермальных источников. Итог оледенения был закономерен. Ледяной покров препятствовал выветриванию, вулканы продолжали работать, и уровень углекислого газа начал расти. К середине эдиакария парниковый эффект растопил льды, открыв расползающуюся на континентальные лоскуты Родинию. Усилившийся сток с суши обогатил воды океана фосфором и карбонатами, что привело в итоге к кембрийскому взрыву.
Масштаб оледенений в палеозое был несопоставим с Землей-Снежком, но все еще оставался существенным. Дважды полярные широты скрывались под толщей снега и льда. Первое оледенение известно как Андско-Сахарское и имеет временные рамки 460 – 420 млн лет. Второе – ледниковый период Кару, случившийся 360 – 260 млн лет назад. Следы обоих оледенений можно увидеть в Бразилии, Марокко, Сахаре, Ливии и Южной Африке. Оба геологических события сходны между собой. Центром оледенения становится крупный массив суши, дрейфующий в районе Южного полюса – Гондвана. А фактором, запускающим механизм глобального похолодания, выступает падение уровня CO2 в атмосфере. Но теперь его концентрация зависит не только от вулканов и выветривания.
В ордовике к цианобактериальным матам, влиявшим на состав атмосферы еще в протерозое, добавились водоросли, фитопланктон и первая наземная флора, лишайники. Увеличение их биомассы привело к изъятию большого количества CO2 из атмосферы и захоронению уже в виде обширных залежей горючих сланцев. Как итог – похолодание, обширное оледенение и падение уровня моря, погубившее богатые жизнью шельфовые зоны. На рубеж ордовика-силура приходится второе по масштабности вымирание, уничтожившее до 70% видов. После чего опять стал расти уровень CO2, парниковый эффект вернул лед в жидкое состояние и биомасса растений вновь стала увеличиваться.
В каменноугольном периоде сценарий с оледенением повторился. Только в этот раз не водоросли, а заболоченные леса из древовидных папоротников сыграли роль накопителя оксида углерода. Пока меганевры наслаждались рекордными 35% кислорода в атмосфере, и формировались многометровые толщи каменного угля, с юга надвигались ледниковые пустоши. Конец их продвижению положили грибы и бактерии, научившиеся питаться древесиной и возвращающие в атмосферу CO2.
К мезозою в мире установился хрупкий климатический баланс. Материки начали расползаться подальше от полюсов, увеличилась площадь эпиконтинентальных морей, сформировался почвенный покров. Роль химического выветривания упала, а с возвращением в атмосферу CO2, накопленного растениями, прекрасно справлялись сапрофиты и травоядные животные. Планета вступила в термоэру, продолжавшуюся до середины кайнозоя. Средние температуры от +20°С и выше, широкий экваториальный и тропический пояса, теплые мелководные моря. Рай для динозавров и древних млекопитающих, который не мог длиться вечно.
Зима близко
Первые звоночки о грядущих переменах прозвучали еще в конце мелового периода. Движение континентов, появление молодого Атлантического океана, сокращение акватории Тетиса привело к изменению морских течений и циркуляции воздушных масс. В полярных областях стало по-настоящему холодно, на Чукотке и в Антарктике динозаврам приходилось выживать в условиях суровых снежных зим. Но уже в палеоцене, 55 млн лет назад, началось быстрое и неожиданное потепление. Причиной резкого (на 8°С) возрастания температуры могло стать высвобождение метана, накопленного в морских донных отложениях в конце мелового периода. Наступило вечное лето эоцена, и широколиственные леса росли за полярным кругом.
А между тем мир неуловимо менялся. Еще в начале мезозоя появился фитопланктон нового типа, представленный диатомовыми водорослями, динофлагелятами и кокколитофоридами. При низкой биомассе фитопланктон обладает огромной продуктивностью, выступая основанием трофических цепей в океанах. Продуктивность оборачивается повышенным потреблением CO2, часть которого включается в круговорот веществ гидросферы, часть превращается в залежи углеводородов. К середине кайнозоя падение уровня углекислого газа стало сказываться на годовых температурах.
В олигоцене начала покрываться льдом Антарктида, сместившаяся район Южного полюса. В миоцене ледники появились в горных долинах Гренландии. В плиоцене движение континентов привело к окончательному исчезновению Тетиса, а заодно к образованию Панамского перешейка. Система течений поменялась, и теплые воды из тропической Атлантики направились в Северный, тогда еще не Ледовитый, океан. С изменением географии менялась и биосфера планеты. На смену бескрайним лесам пришел новый тип ландшафта – степи, что привело к увеличению альбедо и ускорило общее похолодание климата.
Открытые пространства с травянистой растительностью, зарослями кустарников и участками леса вдоль речных долин постепенно сливались в одну огромную экосистему. В плиоцене (12 – 2 млн лет назад) степи, саванны и редколесья протянулись от Южной Африки до Центральной Азии и дальше на восток, через Берингов пролив в Новый Свет. Единство ландшафта сформировало и общий фаунистический комплекс – гиппарионовую фауну. Здесь были крупные травоеды (быки, носороги с бегемотами etc), быстроногие антилопы и гиппарионы, эволюционирующие в лошадей, хищники вроде псовых, гиен и саблезубых кошек, жирафы, страусы, барсуки, грызуны. Хоботных представляли семейства слонов и мастодонтов. А в африканских саваннах обитало несколько видов прямоходящих человекообразных обезьян.
Перенос теплых вод Атлантики в северные широты привел к увеличению объема осадков в приполярных областях суши. Лето становилось все более холодным и дождливым, зима затягивалась, и скорость накопления снежных масс превысила скорость их таяния. Альбедо планеты, усиленное распространением степей, еще больше увеличилось за счет территорий, покрытых снегом круглый год. Подсчитано, что для формирования ледника необходим шестиметровый слой слежавшегося, плотного снега. Этот предел был преодолен 2,6 млн лет назад. Становилось все холоднее, все больше влаги уходило на формирование ледовых щитов в Европе и Северной Америке. Началось Четвертичное оледенение.
Новый порядок
На протяжении всего плейстоцена холодные эпохи сменялись теплыми межледниковьями. Ледовые щиты пульсировали, то сжимаясь, то занимая до четверти площади всей суши, и вместе с ними менялся уровень мирового океана. Последняя ледниковая эпоха, известная как валдайское оледенение, продолжалась около 100 тысяч лет и закончилась 11,7 тысяч лет назад. Какой была планета во времена максимального оледенения? Данные геологии позволяют заглянуть в прошлое и нарисовать карту этого удивительного мира.
В Северном полушарии ледниковые массы подпитывались влагой из северных областей Атлантики и Тихого океана. Это определило характер расположения континентальных ледниковых щитов. Ледовый панцирь толщиной два-три километра расползался на юг и восток от Скандинавии, доходя до средней полосы России. Шотландия и частично Альпийский регион были покрыты собственными ледниками. Еще один центр оледенения располагался на Урале. В Америке Кордильерский и Лаврентийский ледниковые щиты сливались в один массив, протянувшийся от Аляски до Лабрадора. В Северном Ледовитом океане оставались свободные от многолетнего льда зоны.
Климат стал холоднее современного на 6°С, и гораздо суше из-за того, что значительная часть воды была связана в ледниках. Именно малым количеством осадков объясняется практически полное отсутствие ледников в Сибири и на Чукотке. За пределами приледниковой зоны тянулись степи и редколесья, переходящие в огромные пустыни. Тропические леса Амазонии и Конго, кажущиеся неизменными со времен динозавров, уступили место саваннам. Горные области, даже в Тайване, на Новой Гвинее и в Австралии, стали центрами локального распространения ледников.
Накопление огромных масс льда вызвало понижение уровня моря на 120 метров. Шельфовые участки дна превратились в сухопутные мосты, соединяющие архипелаги и даже континенты. Берингия, один из таких мостов, превратилась в транспортный коридор для животных. Мамонты, древние бизоны и саблезубые кошки пришли в Северную Америку. В Евразии появились волки, лошади и верблюды.
Казалось бы, такие перемены должны нанести серьезный удар по биосфере. Отчасти, так и произошло. Но для степных экосистем сухой и холодный плейстоцен стал периодом расцвета. В северном полушарии плиоценовые саванны образовали необычный ландшафт – тундростепь, обитатели которого получили название «мамонтовая фауна».
Мамонтовые степи
Путешественник во времени, вернувшийся в прошлое на 15 – 100 тысяч лет назад, не увидел бы привычной таежной зоны в северном полушарии. От Европы на восток до самого Тихого океана тянулись бескрайние равнины. Обширные поля злаковых трав, настоящее травяное море, пересекались участками тундровой растительности на возвышенностях. Можжевельник лиственница росли на склонах холмов. Вдоль рек протянулись ленточные хвойные леса, низинные участки были заняты ивой, ольхой, кустарниками и болотной осокой. Сухая, малоснежная зима превращала это растительное изобилие в доступный для травоядных животных корм. По подсчетам специалистов продуктивность тундростепей была не намного ниже, чем в африканской саванне. Схожим был и состав фауны тундростепей, и это не удивительно. Ведь основой (с локальными особенностями) была одна и та же гиппарионовая фауна.
Высокая продуктивность тундростепи обеспечивалась за счет копытных животных, поддерживая, в свою очередь, их численность и разнообразие на высоком уровне. Биомасса трав на единицу площади мала, но она очень быстро восстанавливается. А корневая система образует дернину, защищающую почву от размывания и вытаптывания. Это способствует накоплению органики в почве, делая ее более плодородной. Копытные выедают доступную траву, не уничтожая ее полностью, после чего перемещаются на новое пастбище и оставляют после себя ценное удобрение, навоз. Что, в свою очередь, позволяет восстановиться травам и дает пищу новым животным.
Визитной карточкой и крупнейшими обитателями тундростепей были мамонты. Наиболее известен шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius), которого можно было встретить как в районе Воронежа, так и на Чукотке или в Канаде. Вопреки распространенному мнению, он не был крупнейшим представителем отряда хоботных. Рост взрослых самцов колебался от 2,8 до 3,5 метров, что сопоставимо с африканскими слонами. Правда, весил эти великаны почти в два раза больше, до 8 – 10 тонн. Крупнее был теплолюбивый колумбийский мамонт (Mammuthus columbi), обитавший в Северной Америке – до 4 метров в холке. А первенство среди хоботных удерживает мамонт степной (Mammuthus trogontherii), выраставший до рекордных 4,7 м в высоту!
Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) – другой типичный обитатель северных ландшафтов. Размером чуть крупнее черного, и поменьше, чем белый носорог, он отличался массивностью и густым рыжевато-бурым мехом. Вес крупных самцов мог достигать 3,5 тонн, самки были меньше. Как и современные носороги, морду этого животного украшал рог, достигавший огромных размеров. Известны образцы длиной до 1,4 метра и весом около 15 кг. Это было не только турнирное оружие, но и «лопата», которой носорог разгребал снег в поисках сухой травы.
Более многочисленными, чем мамонты и носороги, были степные зубры (Bison priscus), ставшие впоследствии предками европейских зубров и американских бизонов. Рассеянные по равнинам, они собирались в огромные стада численностью в десятки тысяч особей на время сезонных миграций. С зубрами соседствовали дикие лошади, сайгаки и северные олени. На Аляске и Чукотке можно было встретить овцебыков. Большерогий олень встречался по всей Европе, но нигде не был особо многочисленным.
Бок о бок с травоядными животными обитали хищники. Волк, привычный житель северного полушария, появился 1,8 млн лет назад в Северной Америке и через Берингию попал в Евразию. Откуда позже вернулся в Америку, вытеснив обитавшего там ужасного волка (Canis dirus). Сибирь была родиной бурого медведя, который постепенно расселился повсеместно. Его более крупный собрат, пещерный медведь, обитал в Европе, доходя на восток до Урала и Алтая. Характерной особенностью мамонтовой фауны было присутствие крупных кошачьих, таких, как пещерный лев и гомотерий.
И, конечно, самым необычным и самым опасным обитателем этих ландшафтов, был человек. Немногочисленные общины первобытных охотников следовали за мигрирующими животными, расселяясь по всему земному шару. Несмотря на суровый климат, тундростепь была заселена в верхнем палеолите. Стоянки и следы присутствия человека известны повсеместно. Наши далекие предки строили жилища из костей мамонтов в районе Воронежа. Вырезали фигурки женщин в Чехии и недалеко от Байкала. Знали, где добыть острый кремень для копий, умели гнуть и распрямлять рога и кости, шили из шкур комбинезоны, украшали волосы раковинами, а стены пещер — великолепными рисунками. Приближалась современная геологическая эпоха, голоцен, и ледниковый период подходил к концу.
Глобальное потепление
Завершение последней ледниковой эпохи началось около 20 тысяч лет назад. Сложно сказать, какой из факторов повлиял на этот процесс в большей степени. Одной из наиболее вероятных причин выступает увеличение концентрации метана в атмосфере. Метан накапливается в морских донных осадках в виде газогидратов. Одним из условий их стабильности выступает давление толщи морской воды. При понижении уровня моря оно падает, и начинается высвобождение метана. Это приводит к нарастанию парникового эффекта, и запускает таяние льдов. Сокращение ледового покрова уменьшает альбедо планеты, больше солнечного тепла поглощается поверхностью Земли, и задерживается, благодаря метану в атмосфере.
11 – 7 тысяч лет назад ландшафты стали приобретать привычный нам сегодня вид. Ледники отступили, хотя и сохраняются в горах и ледовых шапках на полюсах планеты. Поднялся уровень океана, затопив огромные территории в шельфовой зоне. Увеличилась площадь экваториальных лесов и сократилась площадь пустынь. Место тундростепей занял таежный пояс, а выжившие представители мамонтовой фауны расселились по доступным экосистемам. Теперь уже сложно поверить, что казахстанские сайгаки соседствовали некогда с гренландскими овцебыками.
Неожиданным итогом ледниковой эпохи стало массовое вымирание, темпы которого нарастают с начала голоцена. Вымирание в большей степени затрагивает представителей мегафауны, переживших десятки колебаний климата за последние пару миллионов лет. Масштабы его впечатляют: от 16% видов в Африке до 82% в Южной Америке. Да, есть соблазн списать этот процесс на изменения климата. Но слишком уж часто вымирание крупных животных совпадает с миграциями людей в места их обитания.
Нравится нам это, или нет, но человеческая деятельность становится все более значимым фактором воздействия на биосферу и климат планеты. Мы активно вносим свой вклад в изменение концентрации парниковых газов в атмосфере. Меняем альбедо планеты, вырубая леса. Способствуем росту пустынь и кустарниковых зарослей, истребляя крупных травоядных. Кайнозойская ледниковая эра не закончилась, наше теплое время лишь передышка перед очередным наступлением льдов. Когда она наступит — зависит теперь и от нас с вами.
Источник